Сумерки божественного в человеческом. Эзотерика - Живое Знание - «Эзотерика»
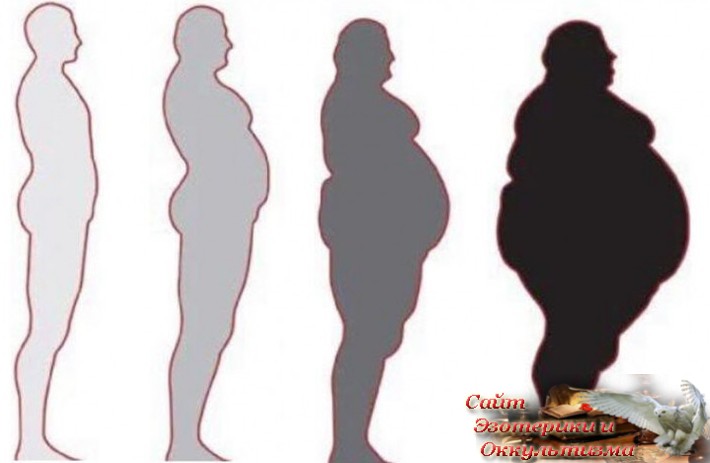
Мы постоянно делаем выбор, а выбор сводится к тому, что пойдешь или в направлении гармонии, Воли Божьей, потока вселенной, — или против.
Дасс Рам
Возвращение к целостности.
Согласно представлениям современного российского философа Игоря Мардова «До рождения в духе, добирается один из нескольких тысяч» (Мардов И. Б., «Путь восхождения»). Это согласуется и с оценками других авторов прошлого и настоящего, обсуждавших уровень просветленности (осознанности) людей своего окружения (см. например, Сатпрем, «Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания»). Век спустя, в 1985 году американский психолог Дэвид Хокинс на основе запатентованного им способа измерения уровня осознанности, показал, что доля взрослых людей в диапазоне возрастов от 35 до 50 лет, чьи мотивации не выходят за уровень дефицитарных потребностей тела и эго, составляет 78% (Хокинс Д. «От отчаяния к просветлению, Эволюция сознания»).
Удивляться такой статистике не приходится.
- Во-первых, мотивация метапотребностями духовного пробуждения предполагает успешное преодоление притяжения потребностей тела и эго.
- Во-вторых, чем выше по пути духовного пробуждения продвигается человек, тем все бόльших самоограничений и волевых усилий это от него требует, и тем меньше понимания и поддержки он находит в своем социальном окружении. Именно поэтому на Пути Восхождения так много развилок «вверх-вниз», а ряды тех, кто выбрал «вниз», многократно пополняются по мере продвижения по возрастной шкале.
В этом смысле пирамидальная форма представления иерархии потребностей по Абрахаму Маслоу, представленная на рисунке, вполне символична. Действительно, объемы частей пирамиды, отсекаемых от неё на соответствующих уровнях можно соотнести с долей человечества, вовлеченного в соответствующий пласт потребностей.

Если исходить из такой символики, то станет очевидно, что людей мотивируемых метапотребностями будет в разы меньше тех, кто мотивируется дефицитарными потребностями. Впрочем, иначе и не может быть, если учесть, что на каждый следующий уровень в иерархии потребностей попадает лишь часть живущего человечества из числа, удовлетворивших предыдущие.
Заметим, что спустя чуть больше полувека (56 лет) классическая пирамида потребностей Маслоу, представленная им в 1954 году, уже лишилась своих метапотребностей («Самоидентификация» и «Самоактуализация» на рисунке). На страницах престижного американского журнала «Perspectives on Psychological Science» в статье «Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations» («Обновление пирамиды потребностей: современные пристройки на древнем фундаменте»), май, 2010 г. опубликована обновленная версия пирамиды потребностей. Теперь в качестве метапотребностей выступают: «Поиск и удержание сексуального партнёра» (оранжевый пласт на рисунке) и «Забота о потомстве» (красный пласт на рисунке). Нетрудно предположить, что в следующем "обновлении", очевидно, пропадёт и «забота о потомстве» как рудимент традиционной семьи. Такое "обновление" косвенно отвечает на вопрос о том, куда движется «цивилизованный мир».
Действительно, доля тех людей из общей численности человечества, кто мотивирован духовными метапотребностями, очевидно, может служить хорошим индикатором глобального показателя одухотворенности рода человеческого на момент проведения исследований. Определить эту долю количественно нереально, но можно попытаться качественно оценить динамику самого этого показателя. Если доля людей, питаемых метапотребностями как первоочередными мотивациями (Homo transcendus) в общей численности человечества неуклонно падает, то нетрудно догадаться, куда ведет «цивилизованное общество» пресловутый прогресс технологий.
Обоснованно точно оценить эту тенденцию чрезвычайно трудно. Во-первых, непонятно какой интервал истории развития человеческой цивилизации брать для такого анализа. Во-вторых, судить о приоритетах человека архаичного времени и даже средневекового мы можем лишь сугубо косвенно, исходя из дошедших до нашего времени текстов (это, в основном, мифология, которую официальная наука не признаёт в качестве документов).
Неоспоримыми могут выступать лишь два фактора, непосредственно влияющие на это соотношение:
- Экспоненциальный прирост общей численности людей на планете (демографический взрыв);
- Появление нового вида людей — Человек Потребляющий (Homo Consumericus (от латинского consumo – потреблять, тратить, вести к исчезновению) и его катастрофически быстрое распространение по планете, грозящее вытеснению прежнего вида Homo Sapiens (Человек Разумный) в маргинальную, вымирающую ветвь антропогенеза.
Особенности нового вида Homo Consumericus мы обсудим в следующем разделе. Здесь лишь отметим, что эта антропоморфная модификация человека точно не мотивируется духовными метапотребностями и поэтому не претендует на места среди «Божьих чад» (Homo transcendus). Что касается демографического взрыва, то приведем лишь некоторые опубликованные данные.
В 2005 г. численность нынешней цивилизации людей на планете Земля достигла 6,5 млрд человек. По мнению демографов, это больше, чем проживало до сих пор за всю человеческую историю, если вести отсчет от окончания последнего ледникового периода (приблизительно 13.5 тысяч лет назад). Согласно доктору экономических наук, профессору МГУ Ирине Калабихиной «Первый миллиард людей на планете появился только в 1804 году. Второй миллиард — через 123 года, через 33 года еще один, а дальше динамика такая: через 14 лет, 13 лет и далее каждые 12 лет появляется следующий миллиард». Скорость прироста численности населения Земли, как мы видим, за последние 40 лет стабилизировалась, более того, наметились тенденции к депопуляции, особенно в так называемых «развитых странах» западной цивилизации. Здесь, по данным института демографии им. Вишневского, суммарный коэффициент рождаемости уже в 1990 году был ниже уровня воспроизводства населения (2,1 ребёнка на женщину). По оценкам на 2020 год суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,5 против 1,8 в 1990 году. За последние 30 лет суммарный коэффициент рождаемости в целом по миру снизился в 1,4 раза — с 3,2 ребёнка на женщину в 1990 году до 2,3 в 2020 году.
Что касается скорости прироста численности общества потребления, то здесь – все наоборот. Его численность с 1946 г., когда в США было объявлено о рождении этого социального слоя, неуклонно нарастает. Сегодня, на исходе первой четверти XXI-го века, можно говорить о его глобальном (транснациональном) распространении по всем континентам планеты.
Это позволяет сделать неутешительное заключение: доля людей, мотивируемых в своей жизнедеятельности метапотребностями к духовному пробуждению, с середины прошлого века неуклонно падает. Этот вывод, несомненно, справедлив для западной цивилизации. Что касается масштабов всего человечества, и в частности России, то судить о его справедливости можно будет в недалёком будущем. Если метастазы потребительства проникли и угнездились в поколении миллениалов, то, вероятнее всего, здесь все повторится лишь с некоторой задержкой.
Представление об архаичном сознании человека . Общий вывод сводился к тому, что навязанные идеологами прогресса и просвещения представления о темноте и дикости людей тех далёких эпох на поверку оказываются несостоятельными. Несмотря на суровые условия жизни (скорее выживания), отсутствие гигиены, электричества и прочих благ первой необходимости, наши далёкие предки оставили в культурной летописи человечества столь мощный теологический и философский след, который до сих пор сохраняет свою значимость и актуальность. Не случайно передовые представители естественных наук, психологии и философии все чаще обнаруживают в своих открытиях «хорошо забытые» откровения древних сакральных текстов (об этом в статье «Метанаучное знание и реликтовая физика»). Современный же представитель цивилизованного общества, защищённый от болезней и невзгод, освобождённый от недоеданий и непосильного труда, как правило, не только не озабочен своим культурным наследием, но и не расположен к следованию хоть каким-то культурным традициям. Homo transcendus Античной эпохи не сомневался в своём богоподобии. Homo Consumericus эпохи тотальной цифровизации, вооруженный услугами искусственного интеллекта, не нуждается ни в богоподобии, ни в боге.
Как мог произойти такой чудовищный разворот в массовом сознании на фоне столь очевидного прогресса наук и технологий?
Давайте разбираться.
Богоподобный человек архаичных эпох
Основываясь на многолетних исследованиях аборигенов современности, успешно выживающих в дикой природе «вне благ цивилизации», культурологи и этнографы приходят к общему пониманию ключевых отличий в мировосприятии современного человека и его далёких предков. Их общий вывод сводится к следующему.
Наши пращуры, по-видимому, не отличались критическим мышлением и эрудированностью современного человека. Зато, будучи ментально и чувственно неотделимы от естественной среды своего обитания, они обладали намного более широким спектром индивидуального мировосприятия. В отличие от аналитически мыслящего и отдающего предпочтение зрению («лучше один раз увидеть») жителя современного мегаполиса, человек леса или пустыни мыслит скорее холистически, доверяя в равной мере всем своим органам чувств («симфоничному ощущению единства»). Поэтому вполне естественно для него исходить из божественности своей природы и служить воле Творца как своему предназначению. Аскеза повседневной жизни, наполненность её трудом и молитвами, очевидно, считались вполне естественными и для человека древности. Задача духовного пробуждения для его психики не стояла, поскольку он пробуждался духовно еще на этапе социализации, которая в те времена включала ритуалы инициации. Общепризнано, что нашим предкам были доступны такие «рудименты архаичного сознания», как эмпатия, предчувствие («шестое чувство»), интуиция, прямое знание (ясновидение, яснослышание и т. д.), элементы трансперсонального переживания и т. д. сегодня, практически недоступны взрослому урбанизированному «цивилизованному» человеку. Теперь они называются паранормальными явлениями психики и рассматриваются не как её преимущества, но, скорее, как патологии (пси-феномены). Мистики, шаманы или жрецы архаичной эпохи, с лёгкостью входившие в изменённые состояния сознания, говорили о "памяти прошлых жизней", "перевоплощении", "бессмертии души" как о чем-то совершенно реальном. Причем многие из них (особенно даосы, индуисты и суфии) давали поэтические описания эволюции сознания, поразительно точно совпадающие с современными свидетельствами трансперсональной психологии и регрессионной психотерапии. Они предрекали появление «Сверхчеловека» и «Супраментального сознания» задолго до Ф. Ницше или Шри Ауробиндо. Греки называли прорыв человека в трансцендентное "зрением Пана", китайцы — "великим Дао", индуисты — "сознанием Атмана".
Другим важным источником информации о содержании архаичного массового сознания служат мифы, в том числе и сакральные тексты древних религий. Согласно выводам крупнейших мифологов современности (см. например Кэмпбелл Дж. «Маски Бога» или Элиаде М., «Аспекты мифа»), эти тексты, как правило, содержат несколько смысловых уровней, причём на глубинных уровнях они во многом предвосхищают «открытия» сегодняшних наук о микромире (квантовая физика), макромире (космогония) и человеке (антропология, психология).
Так, например, идея спасения души или «возвращения к Отцу небесному обновленным» после смерти в той или иной мифологической трактовке оставалась ключевой в религиях Запада и философских учениях Востока. В современной онтологической интерпретации квантовой физики эта идея получила второе рождение в концепции Дэвида Бома о «Холодвижении».
В древнегреческой философии первоначально человек не существует сам по себе, но лишь в неразрывном единстве с порядком космического масштаба. Само понятие космоса имело в ней человеческий смысл, а человек мыслился как микрокосм, являющийся отражением макрокосмоса, понимаемого как живой организм. Для Сократа, обосновавшего принцип этического рационализма, человек, познавший себя в мире и мир в себе, не будет поступать дурно и несправедливо. Задача человека — стремиться к нравственному совершенству на основе познания истины. Его ученик Платон высказывался еще категоричнее: "...именно духовная составляющая (душа) является компонентой, которая делает человека человеком", а тело рассматривается им как враждебная ей материя. Такова же по сути и «Природа Будды в человеке», и «Суфийская антропология», и «Божественная природа человека» в Православии Неслучайно идеалом или архетипом героя в те далёкие времена согласно Дж. Кемпбеллу, служит богоподобный человек (Homo transcendus).
Обездушенный человек эпохи Просвещения
С развитием науки и появлением первых технологий, примерно с середины XVII-го века, философия объективного детерминизма, подкрепленная механикой Исаака Ньютона, формирует материалистический научный подход, который противопоставляется религии в качестве единственно возможного ключа к познанию природы. Вселенная Ньютона, выстроенная на Картезианской основе детерминизма, согласно новому подходу, не нуждается в Творце, поскольку она — лишь «гигантский часовой механизм, запущенный случайно». Устами основоположников философии рационализма и материализма Рене Декарта и Френсиса Бэкона, соответственно, человеческий разум был признан самодостаточным основанием для «построения Царства божия на земле». От теоцентристской картины мира, свойственной Средневековой Европе, было предложено перейти к антропоцентричной его картине, где разум человека был признан мерилом всего сущего, основой познания и преобразования мира. На этом основании была провозглашена и новая цель цивилизации: с помощью науки сделать человека господином и повелителем природы. Фетишизация возможностей человеческого разума и науки неминуемо приводила философское основание нового времени «просвещения» к деизму, полностью устраняющему Творца из миропонимания. «Знание – это власть, — провозглашал Фрэнсис Бэкон и уточнял, — Реальной властью над умами обладают не те, кто открывает объективные истины, а те, кто их создает. Истина не открывается, она творится силой». Что это, как не гимн манипуляторам сознания, творящим в головах своей паствы нужную им реальность!?
Этот поворотный рубеж в мировой истории по злой иронии обозначается как «приход эпохи просвещения на смену отсталости и дикости прежних времён». По мнению многих историографов и философов современности именно с эпохи просвещения следует начинать отсчет упадка великой Западной культуры, разворота ее от теологических начал в сторону рационализма, фетишизации вещей и развлечений. (См., например, Елишев С. О., «Эпоха просвещения и её идеология»).
Социологическими основаниями вновь создаваемого «цивилизованного общества» стали концепции политической философии и общественного договора. Согласно Томасу Гоббсу, одному из основателей новой социологии, человек понимался как часть животного мира, функции которого принципиально сводимы к механическому движению, а законы разума — к законам математики. Новый человек (человек Гоббса) перестаёт рассматриваться как подобие Творца, теперь это недоброе и агрессивное существо. «Такие страсти, как эгоизм, жадность, агрессивность, стремление доминировать превалируют над любовью и стремлением к кооперации» утверждает Гоббс на страницах «Философских оснований учения о гражданине». В соответствии с Гоббсовским учением о гражданине, жизнь человека — чисто механический и автоматический процесс. Это «лишь движение членов. Причем сердце — это пружина, нервы — нити, суставы — колеса, сообщающие движение всей машине человеческого тела». Принцип механистического понимания жизнедеятельности человека Гоббс развивал последовательнее Декарта, т. к. отказался от идеи разумной души, составляющей проявление особой, духовной субстанции.
Отделённость человека от природы не трактуется более, как иллюзия, от которой нужно избавиться на пути к духовному пробуждению. Теперь человек – господин, побеждающий природу и «овладевающий ею». Мир и отделённый от него человек, выстроенные на картезианской основе детерминизма, не нуждаются в Творце, наука не нуждается в мифах, а человек не нуждается в «эфемерной духовной компоненте». Вслед за Гоббсом многие философы эпохи Просвещения (Дидро, Вольтер) рассматривали связь тела и сознания как случайную. Д. Дидро, например, утверждал, что все человеческие дети являются потенциальными преступниками. Сам же Гоббс свое понимание сущности человека выразил в афоризме, который широко вошел в западную культуру и стал девизом капиталистического общества: “Homo homini lupus est” ("Человек человеку — волк"). Отнимая у человека его трансцендентное измерение, Гоббс оставлял ему два ключевых мотива к деятельности: страх и властолюбие. В противоборстве этих начал вершится личная судьба каждого. Как следствие, «человек Гоббса», очевидно, не является ни агентом Мирового Разума, ни носителем Божественной Любви в биосфере Земли. В такой карте реальности жизнь и её смыслы совершенно естественно подчинены законам естественного отбора в борьбе за выживание, а любое упоминание о трансцендентности, духовности или божественности рассматриваются в «цивилизованном обществе», в лучшем случае как дань традициям, идущим «к просвещенным временам из тёмного прошлого».
В обществе, где идет бесконечная борьба за выживание, никакие договоры между отдельными людьми не соблюдаются без гаранта. В роли такого гаранта, согласно концепции общественного договора Гоббса, выступает «государство-Левиафан», которое - в обмен на права и свободы каждого отдельно взятого человека - устанавливает всеобщий мир. Метафорическое представление государства в форме «Левиафана», состоящего из тысяч мельчайших человеческих шестерёнок, лишает гражданина такого монстра субъектности. Такое социальное устройство, где благополучие граждан окупается отречением каждого от своей трансцендентной составляющей и негласным согласием на превращение из субъекта, актуализирующего свою самость в объект манипулирования, политический философ Павел Щелин удачно называет «Фаустовским обществом».
Так отречением от идеалов предков зарождается «цивилизованный мир» секулярного, материалистического и потребительского социума.
Homo Consúmens эпохи глобального потребления
Многое из новаторских подходов эволюционной психологии («Теория модульного содержания сознания» Курзбана, «Ген эгоизма» Докмнза, «Тоталитарное эго» Гринвальда) укладываются в логику выращивания нового антропологического подвида — человека потребляющего. Мотивации этого «раскрепощенного человека» должны быть ограничены списком предопределенных потребностей, на каждую из которых в гигантском меню глобального потребления найдется своя услуга. Всё, что выходит за этот перечень, следует признать психическими отклонениями или «приземлить» и втиснуть в список предлагаемых услуг. Именно поэтому нельзя подвергать сомнению происхождение человека от обезьяны, а теологическую антропологию, в которой человек богоподобен, не следует рассматривать всерьез. Именно поэтому метапотребности человека в творчестве и самоактуализации сводятся у психологов-эволюционистов к генетически заданному свойству человеческой психики представлять себя в выгодном свете («бенефектанс»). Неудивительно, что человек, в рамках всепобеждающей эволюционной целесообразности, трактуется сегодняшними психологами-эволюционистами как животное в эмоциональном (Роберт Райт, «Моральное животное») и интеллектуальном (Дуглас Кенрик, «Рациональное животное») смыслах.
Историю появления и построения глобального общества потребления и его постепенного цифрового обнуления при помощи искусственного интеллекта мы обсуждали в статьях «Общество потребления на пути к обнулению» и «Операция тотальная цифровизация» соответственно. Здесь кратко охарактеризуем результат в форме психологического портрета элементарной ячейки этого общества — человека потребляющего (Homo Consumericus).
Усилия армии манипуляторов массовым сознанием, включающей психологов-эволюционистов, социологов третьей волны, культурологов постмодерна, рекламщиков и специалистов в области искусственного интеллекта, не пропали даром. Подсчитано, что средний американец ежедневно выслушивает до 4 тыс. рекламных объявлений. Из 22 часов, которые американские подростки еженедельно проводят перед экраном телевизора, от 3 до 4 часов составляет реклама, то есть за 17–18 лет жизни они выслушивают по крайней мере 10 тысяч телевизионных призывов что-то купить. Человек потребляющий отворачивается от естественного мира — от людей, от природы. Всё свое внимание он фокусирует на мире искусственном — на вещах и развлечениях из сферы культурных услуг. Для такого человека внешний мир перестаёт быть объектом познания и принятия, а превращается в набор объектов купли-продажи. Всё внимание этого человека обращено к экрану своего гаджета, который погружает его в виртуальный мир грёз. Социологические опросы в США показывают, что 93% девочек-подростков называют шоппинг своим любимым занятием; порядка 60% студентов колледжей, говоря о жизненных ценностях, самым важным считают зарабатывание большого количества денег; в Вашингтонском университете, отвечая на вопрос «что для вас самое важное в жизни?», 42% ответили «хорошо выглядеть», 18% – «быть всегда пьяным», и только 6% – «получить знания о мире» (Бьюкенен П. Дж., «Смерть Запада»).
В результате к исходу ХХ-го века вначале в северной Америке, а затем и на всех остальных континентах возникает новый тип людей — «одномерный человек» Герберта Маркузе. В этом представителе глобального общества потребления все многообразие жизни, все её трансцендентные проявления вписываются в существующий товарно-денежный порядок, а вся этика сводится к нехитрой формуле «хорошо то, что мне сейчас выгодно». По мнению современных социологов и психологов, изменения психосферы этого антропоморфного существа столь революционны, что они уже отразились и на его внешнем облике (чрезмерный вес, дряблость мышц, одышка, нежелание двигаться), и на характере (нетерпимость, раздражительность, депрессивное состояние). Согласно глобальному анализу показателей веса, охватившему более чем 220 миллионов человек в возрасте от пяти лет и старше, общее число людей, живущих с ожирением, к 2020-му году превысило миллиард во всем мире. Причем этот показатель за 30 лет (с 1990 по 2020гг.) среди подростков увеличился более чем в 4 раза!
Всё это позволило специалистам на стыке антропологии и социологии говорить сегодня о появлении нового вида Homo Consúmens. Этот новый вид, в отличие от Homo Sapiens, уже не является ни агентом Мирового Разума, ни носителем искры Сознания в биосфере Земли. Скорее, он представляет собой тупиковую ветвь антропогенеза, обречённую на вымирание, поскольку самим своим существованием не приближает становление Ноосферы, но тормозит этот глобальный процесс. Писатель Виктор Пелевин сформулировал этот вывод метафорично в своем романе «Generation “P”»: «Человек думает, что потребляет он, а на самом деле огонь потребления сжигает его…».
Эпоха просвещения-потребления и закат одухотворения человека
Как могла произойти такая чудовищная перемена в психосфере человека, что на смену Человеку Преодолевающему (агента Мирового Разума и носителя искры Сознания) явился «одномерный человек-потребитель»? Представляется, что поворотным пунктом в истории человеческой цивилизации, определившим эту драматическую трансформацию, была эпоха Просвещения, породившая секулярную культуру постмодерна, на смену которой пришли услуги массовой культуры общества потребления.
Коллапс культуры
Само слово «Культура» происходит от корня «Культ». Согласно российскому историку и философу В. Л. Махначу, «ядром и стержнем, вокруг которого образуется “великая” культура, является религиозный “культ”. В свою очередь культура служит тем основанием, на котором зиждется цивилизация». Очевидно, что попытка расшатать, а тем более изъять ядро, придающее целостность всей социальной системе, оказывается для этой системы губительной. Беда в том, что инертность глобальных, не выраженных явно, информационных по своей сути процессов порождают иллюзии благополучия. Успехи науки и бурный прогресс технологий в XVII-XIX веках на время затмили и погрузили в тень процессы, происходящие в культурной сфере. Даже социальные потрясения (Великая Французская революция 1789-94гг., «Нулевая мировая война» 1853-56 гг.) явно не отразились на культуре западной цивилизации. Лишь в начале ХХ-го века, одновременно с «призраком коммунизма» по Европе начал бродить и «призрак коллапса культуры». Пионерами культурологического алармизма, с его интуитивным ощущением краха западной культуры принято считать О. Шпенглера в Европе и Д. С. Мережковского в России. Если первый возвестил необратимый упадок и гибель европейской культуры, то второй – указал на «могильщика» этой культуры – человека массы, потребителя. Еще в далёком 1906-м году, предвосхищая кровавый хаос гражданской, войны Д. С.Мережковский писал: «Трагедия европейской (как и русской) культуры заключается в выхолащивании религиозных идеалов, утрате культурой подлинного метафизического измерения, на смену которым приходит одномерное мещанское сознание».
Наступающий коллапс культуры был предопределён отказом от принципов вечной философии и связанных с ней этических норм и духовно-нравственных ценностей: на Западе — в сторону секулярного гуманизма и философии гедонизма, на Востоке (в России и Китае) — в сторону различных версий коммунистической идеи. Оба направления, по сути, подменяли теистическую парадигму веры парадигмой атеистической. Общим в новых атеистических религиях является пафос развенчания иллюзий, в качестве которых полагаются традиционные, властвовавшие умами человечества на протяжении всей истории его становления, теологические основы миропонимания. Причём под «религиозный дурман» угодили и мистицизм, и эзотерика, и философия Древнего Востока, и гностицизм, и даже античная философия. Новая власть не желала делиться гегемонией в умах с теряющей позиции теократией. Так, почти сто лет назад, началась всеобщая и полная атеизация «прозревшего цивилизованного человечества». В его культурной сфере восторжествовал постмодернизм, ключевые идеи которого сводятся к признанию относительности любой этической и эстетической нормы, цели, смысла и, наконец, святости человека и его культуры. «Постмодернизм с его критикой абсолютных истин, Бога, разума приводит к объявлению всей истории философии ненужным архивом или бесполезным собранием мнений отдельных мыслителей, интересных только для эрудитов и энциклопедистов» (Горбунова Л. И., «Постмодерн как тенденция развития культуры XX века»).
К концу ХХ-го века в «цивилизованном мире», где голод и болезни ушли в прошлое, разгрузив человека от традиционных забот о выживании и хлебе насущном, было сформировано полноценное общество потребления. Здесь царствует сегодня массовая культура американского образца, с ее опорой на постмодернизм и ориентацией на развлечение. Особенностью этой облегчённой версии постмодернизма является её рыночная природа, где главное – привлечь покупателя культурной услуги. Нехитрая эстетика исходит из рейтинга продаж. Всё, что максимизирует прибыль торговцев культурными услугами, немедленно становится главным достоянием культуры и её ценностью. Заметим, что максимизировать прибыли торговцев культурными услугами (а это и есть цель развития массовой культуры) можно как путём снижения эстетических требований (профанацией потребителя), так и путём снижения себестоимости самого «культурного продукта». В результате массовая культура общества потребления превращена в производство низкопробного эстетического ширпотреба, который апеллирует к низменным инстинктам гедонистически ориентированного потребителя. Порнография и насилие, становятся в обществе потребления ходовым товаром. Это, в свою очередь, воздействует и на человека, который из соучастника культурного процесса трансформируется в потребителя массовой культуры. В результате человек теряет свою субъектность и становится в ресурсом обогащения создателей и исполнителей культурных услуг.
Что касается профанации потребителя, то с этой задачей успешно справляется сфера образования. Эта, в прошлом просветительская ветвь культуры, ныне, как и вся культура, превращена в услугу и полностью утратила свою воспитательную роль. Вместо приобщения к знаниям и культурным традициям в диалоге с опытными учителями, ребёнка готовят к угадыванию правильных ответов из числа предложенных на тестах и экзаменах. Одновременно живое общение с учителями заменяется безликими учебными видеоуроками, а вместо чтения учебников предлагается прослушивание аудио лекций. Замена текстов аудио- или видеорядом выхолащивает процесс познания, загоняет ребёнка в цейтнот, лишает возможности переосмысления прочитанного и выстраивания собственной линии рационализации и понимания прочитанного, отбивает желания вникнуть в суть. Взамен умению читать, слушать и осознавать, в ребенке выращивается поверхностный стиль мировосприятия, шаблонное мышление и клиповое сознание. То, что получается из ученика на выходе такой школы нового образца, вполне подходит под определение "идеальный потребитель".
Парадоксальный прогресс
Теория “прогресса” стала отправной точкой философской базы эпохи Просвещения. В книге одного из первых идеологов прогресса Жана Кондорсе «Эскизы исторической картины прогресса человеческого разума» человеческий разум признается «демиургом истории», в возможностях развития которого не существует никаких мыслимых пределов или границ. Царство прогресса, когда «солнце будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не признающими другого господина, кроме своего разума», по мнению автора, — лучшая альтернатива несбыточному «Царству Божьему на земле». Довольно быстро вера во всемогущество прогресса превратилась в альтернативную религию, а само понятие “прогресс” из оценочной категории превратилось в непререкаемую идеологическую установку. Ставка на прогресс оказалась удобной и потому живучей. Она и до сих пор оправдывает перераспределение средств на его цели, хищническое разрушение экосистем, фетишизацию цифровых технологий, включая создание и внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни и другие разрушительные для человеческой цивилизации решения. Одновременно непререкаемость установки на прогресс обосновывает примат классической науки над альтернативными методами познания, включая религии, мистицизм и внутренние пути познания.
В книге профессора психологии из Гарварда Стивена Пинкера «Просвещение продолжается», изданной в России в 2021 году, прогресс наук и технологий определяется, как невиданное доселе достижение человечества. В самом деле, жизнь человека XX-го века преобразилась колоссально. Во-первых, её продолжительность за 3 последних века увеличилась больше чем вдвое (с 35 до 80-ти лет); во-вторых, детская смертность, достигавшая в XVII-м веке 60%, а в некоторых странах и более, сегодня сократилась до 2%; в-третьих, в том же XVII-м веке за чертой бедности современного уровня находилось более 90% населения (то, что современный городской житель воспринимает как само собой разумеющееся – горячая вода, теплый туалет, холодильник и пр., — три века назад было роскошью, доступной лишь царственным особам); в-четвертых, бытовая техника разгрузила человека, если в XVII-м веке на домашний труд у него уходило в среднем 90 часов в неделю, то сегодня не более 15-ти. Список этот можно продолжать.
Спору нет, человек накормлен, оздоровлён, обогрет и освобожден от массы трудоёмких рутинных обязанностей. И при всём этом - более 40% молодого поколения современных западных стран постоянно употребляет антидепрессанты, находя свою жизнь безрадостной и лишенной смысла. Немецкие ученые в 2020-м году опубликовали подобные данные: за последние 50 лет немцы стали в среднем жить на 400% богаче, а количество несчастных людей, страдающих депрессией, выросло на 38%. В 2015 году Нобелевскую премию по экономике дали доктору Ангусу Дитону за исследование, открывшее поразительный факт про общество США: уровень смертности среди белых американцев средних лет в сравнении со всеми остальными возрастными, этническими и расовыми группами других развитых стран постоянно растет. И причина кроется не в раке, диабете и болезнях сердца, а в росте количества смертей от самоубийств, алкогольной и других химических зависимостей (особенно от героина и успокаивающих средств). Экономисты США были поражены этой тревожной тенденцией. Даже эпидемия ВИЧ и СПИДа не вызывала такого большого демографического провала за последние десятилетия. Главная причина этого явления по мнению американского врача и философа Эбена Александера «духовная пустота, проникшая в нашу светскую культуру».
В чём причина такого явного диссонанса между уровнем жизни и состоянием психики («парадокса Пинкера»)? Если отвечать коротко, то — в утере человеком смысла своего существования. Развёрнутый ответ приведен ниже.
Потеря смысла и её последствия
Осознание воспринимаемой картины мира и выстраивание субъективной реальности – многоступенчатый процесс, финальным этапом которого является рационализация (придание динамической картине мировосприятия связности и смысла). Результат рационализации оказывается критически важным для выживания человека на всех уровнях его сопряжения со средой обитания: от грубых, материальных (биологическое выживание), до самых тонких, ментально-чувственных (психологическое выживание). При этом, по мере взросления человека, в особенности после прохождения им кризиса середины жизни, психологическое выживание становится всё более значимым для него. Одновременно возрастает требовательность к глубине смыслов. Если вначале жизненного пути человек ограничивается при рационализации мировосприятия элементарной логикой причинно-следственных связей («если трону горячее – будет больно»), то на этапе зрелости его уже занимают более глубокие связи и причины происходящего. На пороге духовного пробуждения, человека волнуют глубинные, скрытые смыслы его бытия. Поиски смысла приобретают характер метапотребностей, выходя на передний план в мотивациях. Возникновение таких потребностей австрийский психолог и создатель логотерапии Виктор Э. Франкл называл «волей к смыслу», а их удовлетворение на определённом возрастном рубеже швейцарский психолог и философ Карл Г. Юнг рассматривал в качестве главного приоритета человеческой жизни.
Для понимания смысла явления (феномена) Аристотель предлагал учитывать 4 причины происходящего. Перечислим их в порядке важности:
- Целевая причина (то, ради чего что-либо осуществляется), отвечающая на вопрос «ЗАЧЕМ?».
- Сущностная или категориальная причина (то, в силу чего всякая вещь такова, какова она есть), отвечающая на вопрос «КАКОГО ТИПА?».
- Материальная причина (то, из чего что-либо возникает), отвечающая на вопрос "ИЗ ЧЕГО"?
- Движущая причина (то, благодаря чему что-либо возникает), отвечающая на вопрос "КАК"?
При переходе к материализму фундаментальная (целевая) причина явления (феномена) выносится за скобки, чтобы избежать любого приближения к телеологии. В крайне упрощенном своём проявлении, материализм вырождается в номинализм, отрицающий категории, как универсальный базис признаков, по которым сущности можно объединять в категории (виды, типы и т. д.). В парадигме номинализма задача науки сводится к ответам всего на 2 вопроса: из чего и как возникает то или иное явление (феномен). В науках о человеке номинализм, отрицающий универсальные качества человека, заменяет их совокупностью индивидуальных черт и, таким образом, сводит к нулю фундаментальные основы человечности. Человек, не задающий себе вопроса «Зачем?», лишает себя цели своего существования. На определенном жизненном рубеже отсутствие цели существования вызывает экзистенциальный вакуум, требующий от психики разрешения подобно тому, как физический вакуум требует от организма воздуха для дыхания. Природа (если угодно — Творец) заставляет человека задать себе вопрос «Зачем?». Беда в том, что в обществе потребления мало кто доживает до таких вопросов (т. е. дорастает в своём психическом развитии до преодоления экзистенциального кризиса). Так происходит потому, что жизненные цели и смыслы для рядовых представителей общества потребления предопределены с момента их молчаливого согласия вступить в его ряды. Эти цели и смыслы вкладываются в их субъективную реальность извне вместе с жаждой очередного приобретения. Так, неявно и неосознанно, в человеке-потребителе вырастает цель, затмевающая все остальные — удовлетворение потребностей своего эго. Больше того, сами потребности взращиваются в нём «заботливыми» манипуляторами его сознания, служителями общества потребления.
Заключение
Классическую шекспировскую дилемму «Быть или не быть?» спустя три с небольшим века немецкий социолог и философ Эрих Фромм заменил на дилемму «Иметь или быть?» в своей одноименной книге (Фромм Э., «Иметь или быть?»). В социологическом контексте такой вариант вопроса уже имеет смысл цивилизационной развили. Выбирая «Иметь» вместо «Быть» человек, возможно не осознанно, углубляет свою ловушку двойственного мировосприятия и эгоцентричного мироощущения. В самом деле, тот, кто желает быть собственником чего-то, невольно отделяет себя от предмета своего вожделения. Причём таким «предметом» для него может стать не только любой объект окружающего мира, от которого собственник себя отделяет своим выбором «Иметь», но и сама жизнь! В самом деле, в реальности собственника оборот «моя жизнь» не выглядит абсурдным. А между тем, говоря «моя жизнь», он саму эту жизнь обращает в некую мыслеформу (идею), отделенную от себя. Писатель и духовный учитель Экхарт Толле выразил эту мысль предельно ясно: «Понятие «моя жизнь» — это изначальная иллюзия раздельности, источник эго» (Толле Э., «Единство со всей жизнью»). Для выбирающего «Быть», совершенно естественно считать себя неотделимой частью жизни, если хотите – проводником Духа в царстве материи. Для него границы между «я» и «мир вокруг» не существует. Он растворил свое иллюзорное эго в свете осознанности.
Если принять разворот массового сознания (от архаичного «Быть» к современному «Иметь») в качестве конечной цели строительства глобального общества потребления, то описанные выше тенденции не выглядят деградацией, они совершенно закономерны. Заявленные теоретиками эпохи просвещения цели ни к чему иному кроме, как к глобальному обществу потребления и не могли привести, поскольку их достижение предполагало необратимые трансформации в массовом сознании. В самом деле, вот сжатый список заявленных целей прогресса и способов их достижения:
- «Переход от единства с природой к господству над ней». Эта цель потребовала развития науки и технологии на основаниях материализма (рационализм, детерминизм, номинализм). Этика господства над природой не предполагает ни служения ей, ни даже бережливого отношения к слагающим её экологическим системам. Природа рассматривается в оптике её нового хозяина лишь как кладовая ресурсов.
- «Раскрепощение и подлинная свобода личности». Эта цель предполагает отказ от традиционных нравственных норм и религиозной этики. В стремительно меняющемся мире нет и быть не может ничего универсального и устоявшегося. Главное вовремя воспользоваться этим «освобождением», чтобы направить выбор «раскрепощенной личности» на удовлетворение первичных желаний тела и амбиций подрастающего эго.
- «Повышение благосостояния потребителя». Эта цель достигается одновременной реализацией трёх критериев: сокращением числа потенциальных потребителей, наращиванием удельной ресурсной базы потребления, низведением самого понятия «благо» к сфере телесных услад и низкопробных развлечений. Успех в достижении этой цели соответственно предполагает демографический коллапс, экологическую катастрофу и инфантилизацию психики человека-потребителя.
Что ж, любая попытка создать общество, оторванное от теологических оснований, наработанных всей предшествующей историей становления культуры, при помощи суррогата веры не может завершиться ничем кроме краха. Беда в том, что правнуки учредителей «царства разума, свободного от религиозных предрассудков», вполне удовлетворены доступными им теперь «благами цивилизации» и не замечают приближения неминуемой расплаты за такое «благополучие». Что касается тех, кто почувствовал смутную тревогу или, хуже того, угодил в экзистенциальный вакуум острой духовной недостаточности, то для них существует развитая инфраструктура психологической скорой помощи и индустрия фармакологический поддержки в виде разнообразных антидепрессантов.
Означает ли всё вышесказанное с учетом данных социологии, экологии и демографии, что род человеческий вырождается? Отнюдь нет!
Если подходить к анализу истории системно, то в существовании любой из локальных цивилизаций человеческого общества, можно увидеть аналогии с рождением, зрелостью и гибелью живого организма. Так, английский историк и социолог Арнольд Тойнби выделял 21 локальную цивилизацию в истории развития человечества (становлении ноосферы), из которых, как он полагал, в живых осталось только 10, причём 8 уже находятся под угрозой гибели (А. Тойнби «Постижение истории»). С этих позиций исторический опыт показывает, что крах любой локальной человеческой цивилизации зарождается на тонких планах её бытия. Проще говоря, упадок, ведущий к гибели, начинается с деградации культуры – девальвации нравственных норм, выхолащивания духовности, разрыва связи поколений. Утеря цивилизацией своего культурного кода неизбежно оборачивается на плане материальном чередой революционных потрясений, которые подобно штормовым волнам сметают прогнивший изнутри социальный организм. Однако, на пепелище прежних локальных цивилизаций зарождаются новые, и процесс становления ноосферы (номогенез) возобновляется с новой силой. Глобальность такого процесса (масштаб его в пространстве и времени) несоизмерим с масштабами человеческой жизни. Поэтому, крах той локальной цивилизации, к которой принадлежит конкретная человеческая судьба, рассматривается вершителем этой судьбы (гражданином гибнущей цивилизации), как Армагеддон. С системной же точки зрения причина гибели любой локальной человеческой цивилизации всегда одна и та же: соответствующий социальный организм недопустимо отклоняется от своего истинного предназначения – становления ноосферы как царства разума, справедливости и любви (номогенезу).
Возвращаясь к обсуждаемой теме, заметим, что Человек Потребляющий (Homo Consumericus), пришедший на смену Человеку Разумному (Homo Sapiens) в эпоху распространения на планете глобального общества потребления, рассматривается сегодня специалистами как антропологическая девиантность. В данном контексте девиантность следует понимать шире: это не просто отклонение от нормы, но уход от изначального человеческого предназначения. Очевидно, другую категорию людей, которая сохраняет приверженность к изначальному предназначению человека, Человек Преодолевающий (Homo transcendus) можно рассматривать как фонд носителей культурного кода. Этот фонд человечества сохраняет сквозную преемственность культуры на уровне коллективного бессознательного и с неизбежностью возвращает его на «дорогу к Храму», к исполнению своего истинного предназначения – номогенезу.
Нашли ошибку?



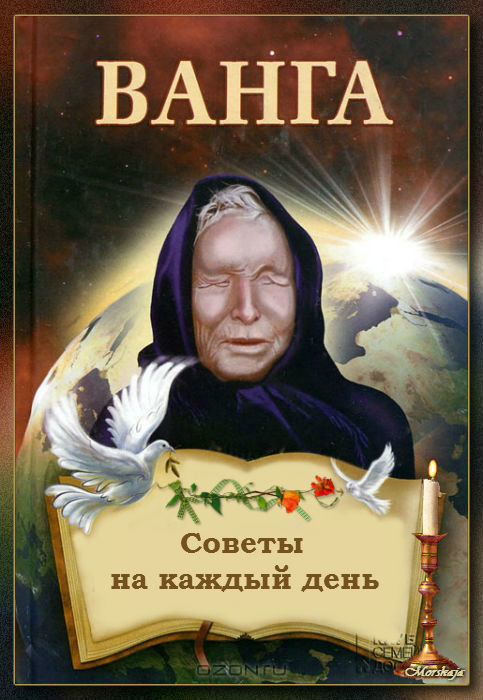

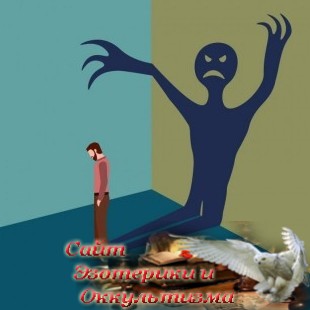








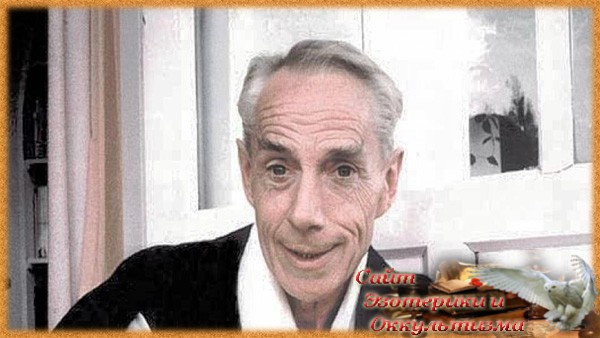
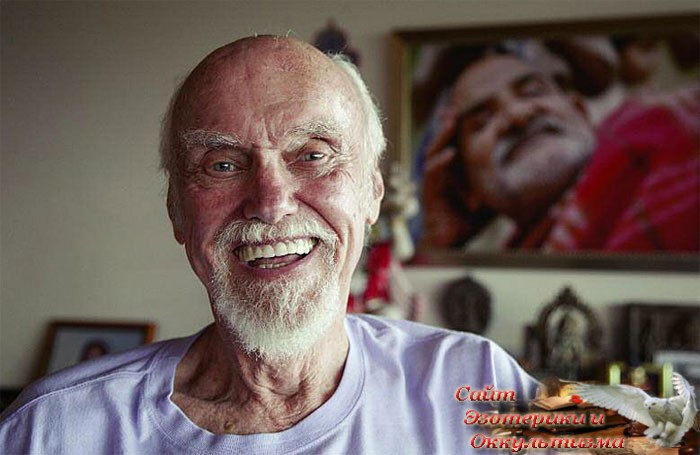
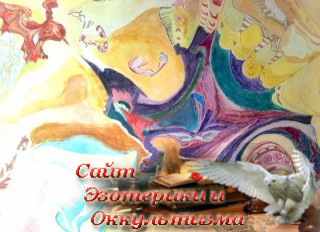



Добавить комментарий!